Алексей Веселкин: «Мне дико все интересно»
17.03.2019
Справка: Алексей Веселкин окончил Театральное училище им. Б.Щукина (курс Ю.В.Катина-Ярцева) в 1983 году и тогда же был принят в труппу Центрального детского театра (ныне РАМТ). В его творческом багаже роли в 35 спектаклях, работа на телевидении в качестве ведущего передач «Будильник», «До 16 и старше», «50х50» и многих других, а также большой опыт работы на радио. В настоящее время Алексей ведет утреннее шоу «Программа П» на радио «Маяк». В нынешнем репертуаре РАМТа играет Меннерса-отца в «Алых парусах», Гельмута Шмидта в «Демократии», Эраста Фандорина в двух версиях спектакля «Инь и Ян», Айвза в «Нюрнберге», Кукольника, Бенкендорфа и Шакловитого в «Последних днях» и Шипучина в «Чехове-GALA».
 Первое приятное удивление от общения с Алексеем – это его согласие участвовать во всем, что устраивает театр. Кажется, он с одинаковым удовольствием вел экскурсию по РАМТу в одну из «Ночей театра», принимал участие в круглом столе на журфаке МГУ, посвященном «Демократии», и вот совсем недавно – давал интервью Пресс-клубу РАМТа. Второе удивление – его пунктуальность. Обещал – сделал, причем быстро, хорошо и вовремя. Ну, и третье – умение говорить на самые разные темы, цепко подбирая слова и позитивно анализируя все, во что бросала жизнь. Слушаешь – и постоянно учишься. А значит, собеседник для очередного портрета в «РАМТографе» выбран правильно.
Первое приятное удивление от общения с Алексеем – это его согласие участвовать во всем, что устраивает театр. Кажется, он с одинаковым удовольствием вел экскурсию по РАМТу в одну из «Ночей театра», принимал участие в круглом столе на журфаке МГУ, посвященном «Демократии», и вот совсем недавно – давал интервью Пресс-клубу РАМТа. Второе удивление – его пунктуальность. Обещал – сделал, причем быстро, хорошо и вовремя. Ну, и третье – умение говорить на самые разные темы, цепко подбирая слова и позитивно анализируя все, во что бросала жизнь. Слушаешь – и постоянно учишься. А значит, собеседник для очередного портрета в «РАМТографе» выбран правильно.
– Задавать вопросы мне любые можно, в любой форме. Если я не захочу отвечать, не буду.
– Вы – благодарный собеседник.
– А я же работаю в такой среде. Я являюсь ведущим большого четырехчасового шоу на радио «Маяк», и там каждый час дифференцирован. Поэтому, как бы ты ни был готов, во время эфира происходят разные вещи. А переключение – и интеллектуальное, и эмоциональное – должно быть как тумблер: там нет возможности для разгона, нет картинки, как на телевидении, и ты не можешь паузу держать. Радио – это пустота, которую ты в любом случае должен заполнить.
 – Ваше детство –это… Опишите несколькими словами.
– Ваше детство –это… Опишите несколькими словами.
– Детство у меня яркое было, прежде всего. С другой стороны, одинокое. Мои родители – эстрадные артисты. Поэтому почти все детство у меня был дефицит общения с ними – они все время гастролировали. Зато я быстрей повзрослел, потому что был сам себе предоставлен.
Детство – это некий протест, который достаточно быстро у меня выразился: я потерял интерес к школе приблизительно в пятом классе. Потом в мою жизнь пришел хоккей, рок-н-ролл, и это тоже провоцировало протест. Но мне все было интересно, и почти не было депрессняка.
После первого класса я попал в пионерлагерь и меня назначили сразу командиром отряда, где и проявились все мои актерские качества, кстати говоря. И я перестал бояться, у меня не было проблем общения. Так что командир отряда, который «отряд, смирно!», «на линейку!» – вот это был я. Причем в последний день, когда была торжественная линейка закрытия лагеря, меня сняли, потому что, как в том фильме – «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», – я и несколько мальчиков ушли за территорию лагеря за кукурузой.
А вообще, детство яркое и счастливое, потому что и родители рядом, и бабушка была жива, и жил я, в общем, почти в достатке. Я не отдавал себе в этом отчета, но сейчас понимаю.
.jpg) – Вы сказали хоккей и рок-н-ролл. Под рок-н-ролл имеете в виду увлечение музыкой?
– Вы сказали хоккей и рок-н-ролл. Под рок-н-ролл имеете в виду увлечение музыкой?
– Ну, я играл. В 1970-х годах все через это проходили, потому что это было нечто вулканизированное. Во-первых, любая субкультура, которой не дают выйти, притягивает очень. Рок-н-ролл возбуждал воображение. Ну, и наступает какой-то момент в возрасте, когда эти звуки как сигналы попадают к тебе напрямую и будят энергию, рок-н-ролл – это, прежде всего, – энергия. Собственно говоря, музыка изменила мое сознание в какой-то степени. Естественно, захотелось играть – это такая очень концентрированная возможность и воздействовать на кого-то, и себя показать, и даже в каком-то смысле обрести себя, потому что в этот момент ты офигенный. Вот стоишь на авансцене с гитарой и… Те, кто на сцене – небожители, какую бы ерунду они не играли: сами децибелы и наличие гитары тебя выводило в другое пространство.
А хоккей появился в тот момент, когда прошла суперсерия с Канадой (серия из 8 товарищеских матчей между сборными СССР и Канады в 1972 году – прим. ред.). Уровень энергетического противостояния там был такой, что даже сейчас это видеть невозможно. Даже с точки зрения эстетики это было столкновение двух миров. И на меня тоже сильно подействовало. Канадцы играли без шлемов, волосы длинные, бакенбарды, форма другая: номера очень большие на спине – в этом даже была какая-то рок-н-ролльность. Две реальности столкнулись, две философии. В результате этих встреч, кстати, родился новый хоккей. Наши увидели бескомпромиссную наступательную игру, физически мощную, как смерч. А канадцы столкнулись с тем, что игра, оказывается, может быть интеллектуальной и коллективно осмысленной.
.jpg) И это можно помножить на то, что я взрослел и меня стали интересовать девочки. А ты на них можешь воздействовать, когда у тебя что-то есть. Учился я не очень хорошо – это не мой козырь был. Значит, что оставалось? Гитара и хоккей.
И это можно помножить на то, что я взрослел и меня стали интересовать девочки. А ты на них можешь воздействовать, когда у тебя что-то есть. Учился я не очень хорошо – это не мой козырь был. Значит, что оставалось? Гитара и хоккей.
– Вы в хоккей играли?
– Играл, да.
– В дворовой команде какой-нибудь или …
– Нет-нет-нет! В «Спартаке» играл и до 9 класса доиграл. Потом мне чпокнули по голове клюшкой. Случайно: парень попал в щель коньками и его подбросило. Сила его падения и клюшка как рычаг меня практически отправили в нокдаун. Когда меня отвезли в поликлинику – потому что у меня кровоизлияние в глаз было, – там все перепугались жутко. Врач сказал: «Тебе повезло еще. Глаз вышибли бы, если б вот в эту кость попало. А удар пришелся в самую сильную». После этого, даже при фанатичной преданности хоккею, меня просто смело. Я продал все: коньки, краги очень красивые, которые папа привез из-за границы. Все пошло в топку. Я шучу, что это был мой первый шаг к актерской профессии: не хоккеист, так артист.
.jpg) – Почему так категорично? Разве пример родителей ничего не значил?
– Почему так категорично? Разве пример родителей ничего не значил?
– Родители – это генетика. То, что я в рок-н-ролле сразу начал песни писать, креативить, мое ощущение авансцены и софитов – они генетически от родителей, безусловно. Поэтому я в рок-группе нашей соло на гитаре играл. В хоккее – играл в нападении, чтобы быть «на острие клюшки». А о профессии актерской родители не допускали мысли вообще.
Меня ведь отдавали в балетную школу Большого театра. И вот судьба – в нее верю, кстати говоря: два года подряд, после 3 и 4 класса, в день экзамена я заболевал воспалением легких. Вообще меня туда не пускало. А в актерскую профессию наоборот.
В седьмом классе мы играли в футбол на перемене. Зимой. То есть мы вышли на 15 минут, и именно в этот момент там была тетенька со студии Горького, которая занималась подбором мальчиков для кино. Она одного пригласила, второго, третьего, на меня реакции никакой. Я в это время стоял долбил мяч в коробку. Мне это в принципе и не надо было в тот момент, но обидно. И вдруг один мальчик говорит: «Я не могу! Я плохо вижу, поэтому мне свет нельзя яркий». – «А ну ладно. Тогда ты», – и тоже не мне, а другому парню в очках. Я так, отвлекшись от мяча, говорю: «А он тоже не может. Он видит плохо. Видите, у него очки!» Она так – уже от безысходности, по остаточному принципу: «Ну, ты давай тогда». И все. Я пришел на пробы, и после первого этюда меня сразу взяли.
Там я встретил ребят из театральной школы Щепкинского училища, и они мне сказали: «Ты должен поступать в эту школу, еще до института». В восьмом классе я учился с ощущением того, что ухожу из английской спецшколы и наконец начинаю новую жизнь. Сам съездил в театральную школу, познакомился с директором, показал ему дневник красного цвета внутри – потому что ничего этого мне уже не нужно было, я прощался с нормальной жизнью нормального человека. И родители выдохнули: «Фух, он артист, оказывается!»
.jpg) Я сам подготовил репертуар: там два тура было… Потом наш класс был поделен на две части: литературную и актерскую. Слава Гришечкин – мой одноклассник, Валера Тодоровский – ныне известный режиссер – тоже. Вице-премьер Ольга Голодец – моя одноклассница, но она была в литературной группе. Интересный класс был и свободолюбивый.
Я сам подготовил репертуар: там два тура было… Потом наш класс был поделен на две части: литературную и актерскую. Слава Гришечкин – мой одноклассник, Валера Тодоровский – ныне известный режиссер – тоже. Вице-премьер Ольга Голодец – моя одноклассница, но она была в литературной группе. Интересный класс был и свободолюбивый.
– А у Вас больше сомнений не возникало по поводу выбора профессии?
– Да вы что! Знаете, с каким удовольствием я выдохнул?
– А до этого мучились, что Вам придется выбирать?
– Что вы! Мучились родители. Я-то бамбук курил в этом смысле, потому что вообще не мог понять, чем хочу заниматься. Мама переживала, а папа относился к этому достаточно спокойно. Может быть, он видел, что во мне все-таки что-то бьется, что я как индивидуум интересен. Просто я не дисциплинирован – могу и это, и это делать. Могу и не делать. А с другой стороны, когда я после 8 класса, после съемок уже, поехал с родителями в круиз на лайнере, я ж выступал вместе с папой. Он научил меня танцевать в номере, и я с ним выступал на равных. Я же не побоялся этого. Работал три недели на теплоходе, где увидел по-настоящему красивую жизнь. Прибыл в школу, опоздав на месяц. Форму не успели купить. И поэтому я в клешах с длинными волосами. И сразу же в первую неделю получил шесть двоек по математике. Математичка меня прям ненавидела за это.
– За клеши, за то, что я снимался. И она меня к директору повела. «Вот, – говорит, – видите, он шесть двоек получил подряд». И директор такой: «Ну, Елена Владимировна, ну, может как-то чересчур Вы это делаете? Так не может быть, чтоб человек шесть двоек подряд!» А она… Я, кстати, от нее узнал, кто такой Генри Фонда, до этого не знал, что артист такой есть знаменитый. А она: «Ха! Генри Фонда здесь нашелся!» Получил молотом по голове сразу за все: и за съемки, и за Генри Фонду, и за клеши, и за волосы, и за то, что без формы. Но у меня цель появилась. А родители стали лучше спать, потому что поняли, что во мне что-то там шелохнулось. И вообще для родителей – я сейчас это понимаю, потому что второй раз прохожу – это принципиальная вещь. Потому что в подростковом возрасте как раз вся самая мерзость в тебе начинает произрастать. И это происходит без учета того, что родителям может быть больно. У самого этого «диплодока» раны не появляются или быстро заживают, потому что природой так, видимо, заведено, он восстанавливается и не замечает, что оскорбляет вокруг себя самых близких. И главное, он делает это осознанно и очень громко – организм так устроен, что почему-то отсутствует децибельное ощущение: громко ты орешь, не громко. И многие из этого состояния не выходят, но кто-то, пройдя это, становится нормальными людьми. Это был очень важный момент в жизни родителей. А я обрел и друзей новых, и интересы, и перспективу. Я очень сильно изменился за это время. Принципиально, можно сказать.
– А как Вы отнеслись к тому, что Ваш сын решил стать актером?
– Ну, он тоже к этому шел логично и быстро. В 10 лет снимался в очень хорошем фильме. «Радости и печали Маленького Лорда» – там компания запредельная просто: его деда играл Говорухин, маму – Оля Будина. Великолепная команда была: Николай Николаевич Волков, Бальдасаров, невозможно было не отпустить его туда, понимая, сколько личностно это человеку дает. Вот так попала в него эта бацилла. Но дело не в кино, кстати. Многие дети вырастают, и ничего не остается от того, какие они милые были. У некоторых по-другому: они расцветают, интеллектуально приходят к какому-то уровню и вырастают в каких-то красавцев.
.jpg) А потом он учился в школе не совсем обычной. Когда мы его отдавали, были 1990-е – все школы развалились. И стоял вопрос, где ребенок должен учиться, чтобы не вырасти бандитом. Я сделал маршбросок по всем школам. Прямо к директору заходил. Тогда телешоу «50x50» только вышло («50х50» – музыкальная программа на Первом канале ЦТ, которую вел А.Веселкин – прим. ред.).
А потом он учился в школе не совсем обычной. Когда мы его отдавали, были 1990-е – все школы развалились. И стоял вопрос, где ребенок должен учиться, чтобы не вырасти бандитом. Я сделал маршбросок по всем школам. Прямо к директору заходил. Тогда телешоу «50x50» только вышло («50х50» – музыкальная программа на Первом канале ЦТ, которую вел А.Веселкин – прим. ред.).
– То есть Вам не нужно было представляться?
– Не-не. Потом я же был в безвыходном положении. А когда ты чувствуешь безвыходное положение, ты можешь куда угодно зайти. И мне в одной из школ и посоветовали эту – полутеатральную. Я прихожу туда и, только зашел, сразу понял, что правильно пришел: девочка прошла с саксофоном, кто-то еще с флейтой. «А, отлично! Вот где он должен учиться!» Привели его, он прочел полтора стихотворения каких-то и все.
На мой взгляд, это все такие судьбоносные вещи. Зайти к директору, который скажет: «Зачем вам нужна математика, если есть не математика, а что-то другое?» Ну, и потом уже на выпуске в классе остались только театральные ребята. И это тоже его сохранило, потому что очень важно в этот момент и с домом связь не терять, и чтобы были рядом вменяемые друзья. Вот их там пять человек и классные такие. Я их со стороны как-то увидел в парке и думаю, что за ребята идут прикольные. Оказалось, свои.
.jpg) А потом он поступал. К Алексею Владимировичу (А.В.Бородин – художественный руководитель РАМТа, в те годы руководитель актерского курса в ГИТИСе – прим. ред.), еще куда-то. Я даже за него аттестат зрелости получал, потому что у него в этот день был третий тур.
А потом он поступал. К Алексею Владимировичу (А.В.Бородин – художественный руководитель РАМТа, в те годы руководитель актерского курса в ГИТИСе – прим. ред.), еще куда-то. Я даже за него аттестат зрелости получал, потому что у него в этот день был третий тур.
– А что значит театр для актера в высшем, эстетическом плане?
– Ну, во-первых, на этот вопрос ответить однозначно невозможно. Для некоторых театр – затертые штампы: дом, храм, – он начинался с этого, действительно. Он был сакральным пространством, где люди существовали в иной реальности. Театром занимались почти как алхимики. И потом результат этой «алхимии» выносился на суд зрителей, на который могли попасть не все.
Театр – это сакральная возможность прихода к себе самому, где человек не стесняется быть собой. Иногда театр – вынужденная мера, когда больше ничего не остается: природа лицедейская такова, что твое место – здесь. Я специально дифференцирую, потому что театр, действительно, разный. Нет ничего прекраснее театра, с одной стороны, и нет ничего отвратительней, чем плохой театр, плохой спектакль, который нарушает элементарные представления о прекрасном. Но театр сам по себе очень противоречив. На этом спектакле одни ощущения, на другом – партнеры другие, ты другой – и это уже другой театр.
.jpg) Театр может быть профессиональным, но не одухотворенным. Тоже такое бывает. Люди понимают, что они работают в модных спектаклях, но поиска там нет. Может быть коммерческим заведомо. Я в таких спектаклях играю – в антрепризе. И театр может быть очень умным, а зритель его не воспринимает. Или наоборот: ты порешь откровенную чушь, тебе иногда стыдно, и зритель это понимает. И все это театр.
Театр может быть профессиональным, но не одухотворенным. Тоже такое бывает. Люди понимают, что они работают в модных спектаклях, но поиска там нет. Может быть коммерческим заведомо. Я в таких спектаклях играю – в антрепризе. И театр может быть очень умным, а зритель его не воспринимает. Или наоборот: ты порешь откровенную чушь, тебе иногда стыдно, и зритель это понимает. И все это театр.
В театре начала двадцатого века много драматургии появилось, которая не развлекала, а заставляла мыслить. И для некоторых театр стал убежищем от реальности. В Советском Союзе, кстати, достаточно много людей убегали от реальности в театр. Это было счастливое время, потому что в нем существовал некий флер, когда публика понимала, что это какие-то другие люди, другая история. Не было мобильников, института сплетен – практически все было завуалировано. В это счастливое время про артистов никто ничего не знал, только на уровне мифов. Что добавляло, кстати говоря, к театру интереса. А сейчас театр – к сожалению, по всей видимости, к этому идет – это продюсерские проекты, которые должны по своему определению являться продуктом.
С появлением денег театр сильно изменился, потому что он должен собирать аудиторию, окупаться. Появились такие термины как инвестиции в артистов. И понятие театра-храма стало все больше размываться. Как футбольные команды меняют тренеров, так и от театра время требует того, чтобы он очень быстро менялся. А для театра это трудно. Чтобы сформировать труппу, нужно лет двадцать.
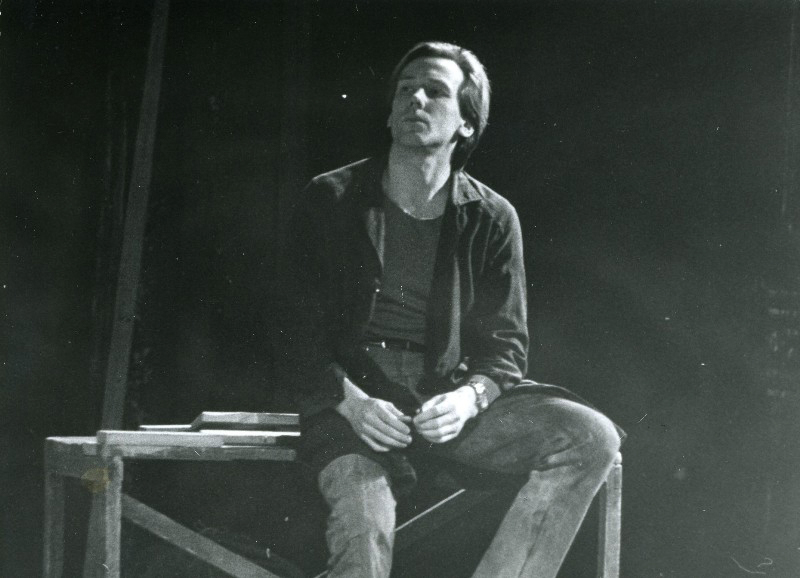 Я, например, находился у истоков РАМТА, мне повезло. Формирование труппы заняло огромное количество времени, а потом начался резкий рост. Но представляете, сколько надо было времени работать, чтобы руки не опускались? А сейчас это непозволительно. Вполне возможно, что в этой форме театр существовать уже не будет никогда.
Я, например, находился у истоков РАМТА, мне повезло. Формирование труппы заняло огромное количество времени, а потом начался резкий рост. Но представляете, сколько надо было времени работать, чтобы руки не опускались? А сейчас это непозволительно. Вполне возможно, что в этой форме театр существовать уже не будет никогда.
– Однозначно не будет – столько времени уже ни у кого нет.
– Другой вопрос, что, наверное, нужно уйти от ситуации, когда режиссер руководит театром. Это, видимо, должен быть продюсер. Энергичный, но с художественным чутьем и вкусом, потому что иногда нужно потянуть и дать спектаклю развиваться, а иногда – подхлестнуть. Кстати, парадоксальная вещь, нас приучили долго что-то делать, хотя сегодня можно сократить этот период (например, репетиционный), потому что время другое.
Я часто сам играю спектакли большие, сложные. Но ритм жизни у меня уже совершенно другой. Вот я недавно вернулся из Питера, там был наш спектакль, через день я сыграл антрепризу, потом у меня по поводу проекта были встречи – я ставлю оперу Римского-Корсакова вместе с рок-группой «Земляне». Я вернулся в Москву и в тот же день сыграл «Алые паруса», на следующий день у меня было совещание в Министерстве обороны по поводу другого спектакля и вечером я сыграл «Нюрнберг», вчера у меня было совещание по поводу оперы и вечером я играл «Последние дни». Завтра у меня выходной день, в субботу утром – эфир на «Маяке», потом совещание по поводу оперы и вечером «Демократия».
.jpg) – В 1980-е годы, когда Вы пришли в этот театр, как выглядел Ваш день?
– В 1980-е годы, когда Вы пришли в этот театр, как выглядел Ваш день?
– Бесконечно весело. Но играли мы очень много, нас в любую дырку же запихивали буквально, мы наигрывали от 26 до 30 с лишним спектаклей в месяц. И не уставали вообще. Не было такого, чтобы кто-то текст забыл, потому что мозг быстро восстанавливался.
Кстати говоря, это важная вещь – ты растешь, когда испытываешь максимальное напряжение, причем занимаясь одновременно всем. В этот момент происходит какой-то «квантовый скачок». И это добавляет много с точки зрения техники театральной, потому что и мозг, и «физика» должны сразу откликаться. Так и в репетиции, и на сцене приходится решать быстро какие-то вещи – на уровне тумблера переключаться.
Это я к тому, что время такое настало: надо многим одновременно заниматься. Мы в другой реальности уже живем. Передвигаемся быстрее, количество информации на нас обрушивается неимоверное. На современного человека за один день информации выливается столько, сколько средневековый человек получал за всю жизнь.
– Но он и двигался со скоростью от пяти до двенадцати километров в час, это если на лошади, а мы до восьмисот и более в час. И поток информационный с такой же скоростью двигается, причем, не прекращается ни днем, ни ночью, и ты от этого уйти даже никуда не можешь.
И продукты так называемого искусства – и музыкального, и визуального – тоже нескончаемые. Если, кстати говоря, не обеспечить себе базу в определенном возрасте, чтобы это было некой иммунной системой, ты можешь потом погибнуть, потому что не успеваешь дифференцировать, что хорошо, что плохо. Поэтому надо на каком-то этапе эту базу подготовить: литературную, киношную, музыкальную.
Я, кстати, с Алешей (своим сыном, Алексеем Веселкиным-младшим, артистом РАМТа – прим. ред.) успел это сделать. Во-первых, с музыкой, так как я хорошо это знал. И это дало основание для того, чтобы его иммунная система не воспринимала мусора музыкального. Фильмы во всех жанрах я ему тоже успел показать. У меня большая видеотека, причем, все купленное, это моя принципиальная позиция. Потому что, когда ты смотришь скачанный фильм или в онлайне, это как бы не твое, а когда ты осознанно выбираешь его, как книгу… Вот я шкаф открываю, у меня в шкафу диски стоят: спорт, путешествия…
– Ну, эти вещи я коллекционирую. Это осознанный выбор. Настя (дочь А.Веселкина – прим. ред.) меня тут спросила: «Пап, это ж ты заплатил за это все?» А я говорю: «Насть, а ты знаешь, за что я заплатил? Я не просто за фильм заплатил, я заплатил за образование». Я их приобрел, как и книги.
– Скажите, а в какой период своей жизни Вы сформировали свою «иммунную систему»?
– Это началось, кстати говоря, достаточно рано – классе в восьмом. С рок-н-ролла – когда каждый диск являл собою целую акцию. Тогда ты не мог его купить – винил стоил беспредельных денег. Фарцовщики привозили их из-за границы и давали переписать на день за десять рублей – это была одна десятая зарплаты советского человека.
Кстати, вы видели, сейчас «лонг-плеи» продаются? На них опять перешли, потому что у флешки нет полиграфии, образа визуального, тактильного. А «лонг-плей», когда ты его берешь, смотришь, вынимаешь, читаешь тексты, – это сгусток энергии музыкальной.
И когда эти пластинки к нам попадали, мы так долго на них смотрели, на все эти картинки, даже не понимая, о чем они поют, там была такая метафизика, что весь мир переворачивался. Хотя, как оказалось, лучше бы я не знал, о чем они поют, потому что там достаточно примитивно все, кроме Pink Floyd и таких же концептуальных групп.
.jpg) – В рамтовском репертуаре был концерт «Rock’n’Roll Life», который Вы придумали и играли. Корни отсюда?
– В рамтовском репертуаре был концерт «Rock’n’Roll Life», который Вы придумали и играли. Корни отсюда?
– Ну, конечно.
– А почему больше Вы не повторяли этот опыт?
– А с кем? Устюгов-то ушел (Александр Устюгов – актер РАМТа с 2003 по 2014 гг. – прим. ред.). И я выдохся. Второй раз человека научить с нуля играть... Я же Устюгова научил на гитаре играть, он три аккорда знал. Это были два года поденной работы, я ему поставил пальцы, сам из-за этого на бас-гитаре стал играть, поняв, что он не сыграет никогда в жизни, и я туда вдолбил рифы, соло – все заново переаранжировал. Мы с ним гитару выбирали вместе, это же целый экскурс был. Я ему специальные большие микрофоны выбрал, чтоб они знаковые были. У Сипина (Андрей Сипин – актер РАМТа, участник спектакля «Rock’n’Rolllife» – прим. ред.) две бочки были, потому что Кит Мун использовал две бочки. То есть каждый элемент был специальным, даже стойки микрофонные были не черные, как сейчас, а хромированные, чтобы в них свет попадал и они отсвечивали. Так что меня второй раз уже не хватило бы на это. Это титанический труд, который можно было только один раз осуществить.
.jpg) – Где Вы научились профессионально на гитаре играть?
– Где Вы научились профессионально на гитаре играть?
– Я просто очень много играл. Когда мне это понравилось, невозможно было пойти учиться, школ же не было рок-н-ролльных никаких. Только потом уже как класс появились рок-н-ролльщики.
У нас был коллектив потрясающий совершенно. Джаз-роковый ансамбль «Арсенал» Козлова. Они первыми играли «Иисус Христос – суперзвезда», когда этого нельзя было делать, и конная милиция оцепляла все. На первом этапе там молодой Стас Намин из «Цветов» играл и Александр Лосев, который «Звездочка моя ясная» поет. А медную группу он всю набрал в Гнесинке на третьем курсе, и они играли по нотам. А эти перцы нот не знали и на слух учили свою партию. Козлов, кстати, тоже со слуха расписывал «Иисуса Христа…». Вот так все это было сделано титанически. Ночью отрепетировано. Есть диск, он называется «Подпольный "Арсенал"».
– А что касается актерской професии, она допускает самообразование, или все-таки для того, чтобы выйти на сцену, нужно иметь некий культурный код и правила, о которых договариваются на берегу?
– Вот профессия актерская, кстати говоря, подразумевает школу. Когда ее не было, актеры как-то договаривались. Потом Константин Сергеевич начал свод законов и закономерностей изобретать – путем экспериментов, конечно.
 Актер, прежде всего, связан драматургией. Во-вторых, решением, режиссерским замыслом – ты должен ему подчиниться, а чтобы подчиниться, вы должны разговаривать на одном языке. В-третьих, если подразумевается внутри спектакля вокал или танец, ты должен быть к этому готовым. И получается в результате, что театр – это очень профессиональные вещи.
Актер, прежде всего, связан драматургией. Во-вторых, решением, режиссерским замыслом – ты должен ему подчиниться, а чтобы подчиниться, вы должны разговаривать на одном языке. В-третьих, если подразумевается внутри спектакля вокал или танец, ты должен быть к этому готовым. И получается в результате, что театр – это очень профессиональные вещи.
«Медийное лицо» вставить в один спектакль можно. Но заставить неподготовленного человека существовать в разных обстоятельствах: один день – в одном, другой – в другом, – невозможно. Театр подразумевает технологию, школу. Причем, не всегда у хорошего артиста она может быть. Но в процессе становления – я тоже в этом процессе нахожусь – ты, конечно, много приобретаешь. И это все равно ложится на базис.
– В училище дают этот базис?
– В общем-то, дают. Я же, видите, работаю, кто-то же дал мне его. Другой вопрос, сейчас, мне кажется, мое любимое Щукинское училище, по сравнению с тем, когда я там был, притормозило. Мне кажется, технологии должны смениться. Я как практикующий человек понимаю, что есть вещи, которым, не учат профессионально. Ну, например, выдержке и феномену ожидания. Вот приходит артист на репетицию, все сидят, ждут. Потом кто-нибудь обязательно скажет: «Блин, ну че вызвали так рано, если не готова сцена», – предположим. Сидят опять. «Ну и зачем вызвали нас? Я бы сейчас…» Твоя профессия – здесь быть. Потому что, только ты отошел, тебя позвали. А ты, в принципе, не должен никуда уходить, ты должен сидеть, ждать. Это в плане преподавания в училище полное упущение. Потому что люди, которые там преподают, с технологией театра напрямую вообще не связаны.
.jpg) Нам, кстати, Катин-Ярцев (Ю.В.Катин-Ярцев – руководитель курса А.Веселкина в Театральном училище им. Щукина – прим. ред.) как-то сказал: «Вы поймите, что в театре вам в основном придется ждать». Что он имел в виду? Чего ждать-то? А оказалось, ждать ролей, всего ждать, что будет период ожидания какого-то, а для этого тоже волю надо иметь, кстати говоря, чтобы с ума не сойти. И я бы, если бы преподавал, делал бы так: все сидят целый день, вообще, чтоб отойти никуда нельзя было. Потом, в тот момент, когда: «Идите, поешьте», – и только они пошли, тут же позвать. И это целый день надо делать, тогда они бы поняли, что в основу профессии ложится ожидание, и никто возмущаться не будет. Это как подготовить суперотряд какой-нибудь, чтобы все сценарии жизненные, которые могут возникнуть в период репетиций, для них не были «Че нас так рано вызвали?»
Нам, кстати, Катин-Ярцев (Ю.В.Катин-Ярцев – руководитель курса А.Веселкина в Театральном училище им. Щукина – прим. ред.) как-то сказал: «Вы поймите, что в театре вам в основном придется ждать». Что он имел в виду? Чего ждать-то? А оказалось, ждать ролей, всего ждать, что будет период ожидания какого-то, а для этого тоже волю надо иметь, кстати говоря, чтобы с ума не сойти. И я бы, если бы преподавал, делал бы так: все сидят целый день, вообще, чтоб отойти никуда нельзя было. Потом, в тот момент, когда: «Идите, поешьте», – и только они пошли, тут же позвать. И это целый день надо делать, тогда они бы поняли, что в основу профессии ложится ожидание, и никто возмущаться не будет. Это как подготовить суперотряд какой-нибудь, чтобы все сценарии жизненные, которые могут возникнуть в период репетиций, для них не были «Че нас так рано вызвали?»
Многие режиссеры-педагоги выражаются в учебных спектаклях друг перед другом – это очевидно. Потому, что это такое закрытое комьюнити, которое не дышит свежим воздухом в принципе. Им кажется, что в этот момент происходят какие-то режиссерские открытия местного разлива, и они очень горды, ходят с поднятым высоко лицом в ощущении какого-то невероятного вселенского величия. А ты смотришь на это как практикующий человек, много играющий и знающий, что такое театр, и видишь, что они находятся в зазеркалье. В том, что было пройдено тридцать лет назад.
.jpg) Поэтому я не ставил бы в училище спектакли, а погружал бы студентов в ситуации общения с режиссером. Например, один режиссер все время орет, не переставая. Второй ничего вообще не объясняет, что бы ни спросил студент. Третий все время какую-то глупость говорит. Короче, нужно набрать пять ситуаций и проработать. Тогда оттуда студент выйдет нормальный. Он будет знает, чего ждать на репетиции: что на него могут проораться, заставлять делать то, что вообще невозможно, вообще объяснять не будут, потому что есть режиссеры такие, которые «встань туда, туда и туда» – «А почему я здесь?» –
Поэтому я не ставил бы в училище спектакли, а погружал бы студентов в ситуации общения с режиссером. Например, один режиссер все время орет, не переставая. Второй ничего вообще не объясняет, что бы ни спросил студент. Третий все время какую-то глупость говорит. Короче, нужно набрать пять ситуаций и проработать. Тогда оттуда студент выйдет нормальный. Он будет знает, чего ждать на репетиции: что на него могут проораться, заставлять делать то, что вообще невозможно, вообще объяснять не будут, потому что есть режиссеры такие, которые «встань туда, туда и туда» – «А почему я здесь?» –
«А откуда я знаю, это же ваша профессия, мне надо все выстроить». – «А я что?» –
«Сами разберитесь». Тогда они поступают уже в профессиональный театр подготовленными. Это и есть профессия.
– А Вы сами прошли через это горнило, через эти ситуации?
– Ну, почти. В училище у меня, я помню, был такой педагог Дина Андреевна Андреева, она еле ходила, и в 9:30 мы репетировали уже, потому что она как пожилой человек не спит, какая ей разница, когда репетировать. И она могла начать репетировать и потом через десять дней закончить. С ней ничего не делалось.
.jpg) – Вы уходили вообще спать домой?
– Вы уходили вообще спать домой?
– Мы потом ей стали говорить. Она: «Да, да, напоминайте мне». Так вот, она обожала репетировать Тургенева…
А до этого мы как-то стояли у одной аудитории, где она репетировала с осетинами, и курили – тогда курить везде можно было. И слышим душераздирающие вопли оттуда. Дина Андреевна орет: «Уааааааааа». А курили мы с будущим директором студии Горького Сережей Зерновым. И я говорю: «Серег, не дай Бог вот так, представляешь, попадешь к Дине Андреевне, чекнешься же». И он: «Да, да». И попадаем. Он в один отрывок – «Ася», как сейчас помню, а я – в «Яков Пасынков».
– Хороший педагог, значит.
– Да, да на всю жизнь. Короче говоря, мы репетировали. Нас было трое. Другие уже мизансцены играют. «А вы-то че делаете?» – «Мы сидим» – «Как так?» – «У нас каждое слово помечено: тут пауза две секунды, три секунды, восемь секунд». И мы, значит, как три придурка наизусть… Причем, потом, когда ее не было, мы от скуки менялись местами, роли-то знали наизусть все три. И могли играть кого угодно. Ничего не менялось в отрывке, он шел железно и мог идти в любом состоянии, но одинаково всегда.
.jpg) И вот, значит, она как-то пришла, а нас двое. Володя опоздал, он рассеянный очень был, чего-то перепутал. У него фамилия была ФилимОненко, но почему-то она называла его ФилимонЕнко. И вот она пришла, разложила бумаги и так громко: «Где ФилимонЕнко? Где этот идиот?» И это в начале репетиции. Приходит Володя. Она: «Вставайте, мизансцена – он приходит вот такой походкой, садится и бросает книгу. Понял, Володь?» – «Да». Заходит: плохо завернул, опять плохо завернул, не надо так руку поднимать. И вот так минут 30 – только чтобы войти и сесть. Мало того, что мы текст на автомате говорили, а еще и двигались: шаг влево, шаг вправо – расстрел. Однажды она вдруг раз – и не знает, что делать. Сидит и говорит: «Посмотрим, что пишет автор: "Он встал и подошел к роялю". Ну, лучше чем Тургенев мы с вами все равно не придумаем! Вставай и иди к роялю». Вот такой педагог был у меня.
И вот, значит, она как-то пришла, а нас двое. Володя опоздал, он рассеянный очень был, чего-то перепутал. У него фамилия была ФилимОненко, но почему-то она называла его ФилимонЕнко. И вот она пришла, разложила бумаги и так громко: «Где ФилимонЕнко? Где этот идиот?» И это в начале репетиции. Приходит Володя. Она: «Вставайте, мизансцена – он приходит вот такой походкой, садится и бросает книгу. Понял, Володь?» – «Да». Заходит: плохо завернул, опять плохо завернул, не надо так руку поднимать. И вот так минут 30 – только чтобы войти и сесть. Мало того, что мы текст на автомате говорили, а еще и двигались: шаг влево, шаг вправо – расстрел. Однажды она вдруг раз – и не знает, что делать. Сидит и говорит: «Посмотрим, что пишет автор: "Он встал и подошел к роялю". Ну, лучше чем Тургенев мы с вами все равно не придумаем! Вставай и иди к роялю». Вот такой педагог был у меня.
– А бывало так, что хотелось все бросить и заняться чем-нибудь другим?
– Другим – нет. К тому же, в студенческое время запас прочности невероятный: два часа сна и все, ты, вроде бы, воскрес уже.
Ширвиндт был еще у меня педагогом – это совсем другой мир: обаяние, барство. Но там другая беда: если два человека в отрывке заняты – это два Ширвиндта, восемь – восемь Ширвиндтов на сцене. Потому что ты не можешь дистанцироваться от него, все очень обаятельно и вроде как ничего другого невозможно представить. То есть его рисунок актерский сам по себе провоцировал на то, чтобы ты, к сожалению, становился Александром Анатольевичем. Педагоги были разные – и это полезно, конечно.
Но вот распределение в студенческих спектаклях происходило, к сожалению, неосознанно. Мне кажется, распределять на роль студента нужно не для того, чтобы отрывок был качественно поставлен, а чтоб человек внутри этой роли по-новому для себя существовал.
.jpg) – А можно считать Бородина Вашим учителем?
– А можно считать Бородина Вашим учителем?
– Да, безусловно. У жизни моей два периода. Первый – Щукинское училище, в котором мне очень понравилось и где я застал Катина-Ярцева. Но ты выходишь оттуда, а актером настоящим становишься только в театре.
Я распределился с нашего курса, может, последним, меня никуда не брали. Да-да-да, мне не с чем было показываться. Об этом, кстати, тоже педагоги должны были думать: вместо того, чтобы ставить спектакли, нужно ставить отрывки, с которыми показываться в театре.
Показывался с самостоятельным отрывком: с Масловым (Алексей Маслов – актер РАМТа – прим. ред.), который на другом курсе был и помог мне. И Алексей Владимирович меня взял в последний вагон буквально. И начался этот период с Бородиным. Сначала немного безответственно: вводы в спектакли не дают ощущение работы, так как ты влезаешь в готовые матрицы. Но постепенно, репетируя спектакли, втягиваясь в процесс, совершенно новый для тебя, ты начинаешь заново себя открывать. Или сталкиваешься с тем, что, оказывается, не можешь чего-то, не способен, учился чему-то другому и тебя по многим параметрам не хватает.
.jpg) Я, наверно, в 80% спектаклей Алексея Владимировича участвую. Первый раз за 12 лет я с ним не репетировал в «Проблеме» (Спектакль А.Бородина «Проблема» по пьесе Т.Стоппарда – премьера нынешнего сезона РАМТа – прим. ред.). Поэтому весь путь, достаточно сложный и интимный, конечно, у меня связан с ним. Он во многом мой учитель. Он сложный режиссер, процесс репетиций всегда очень трудный с ним. Знаете, как бывает: репетируют очень быстро и хорошо, только спектакль плохой. А у него «из-под пера» выходят шедевры, надо признаться, но сам процесс не сопряжен ни с какой радостью. Я вообще редко репетирую весело, потому что подразумевается, что актерская профессия, прежде всего, сверхзависимая. Нет более зависимой профессии. Чему радоваться?
Я, наверно, в 80% спектаклей Алексея Владимировича участвую. Первый раз за 12 лет я с ним не репетировал в «Проблеме» (Спектакль А.Бородина «Проблема» по пьесе Т.Стоппарда – премьера нынешнего сезона РАМТа – прим. ред.). Поэтому весь путь, достаточно сложный и интимный, конечно, у меня связан с ним. Он во многом мой учитель. Он сложный режиссер, процесс репетиций всегда очень трудный с ним. Знаете, как бывает: репетируют очень быстро и хорошо, только спектакль плохой. А у него «из-под пера» выходят шедевры, надо признаться, но сам процесс не сопряжен ни с какой радостью. Я вообще редко репетирую весело, потому что подразумевается, что актерская профессия, прежде всего, сверхзависимая. Нет более зависимой профессии. Чему радоваться?
Алексей Владимирович говорит: «Ну, писал же Эфрос, что репетиции – это любовь»… А-а-а, слышать невозможно уже! С точки зрения режиссера – да, он находится в такой позиции, когда ломает волю и представления. А ты – от режиссера зависим, от драматургии зависим, от партнера зависим, от музыки зависим, от света, от костюма. От всего зависим в принципе! Это какую надо иметь психику, чтобы сказать «А мне все нравится!»
– Но Вы же не ушли…
– Нет, не ушел. Потому что ничего больше делать не умею, – это моя среда обитания. И потом я отдаю себе отчет, что это очень сложно, очень энергозатратно, но в силу того, что лучше всего у меня получается креативить в разных формах (на сцене, как режиссер, в музыке), мне это интересно. Есть у меня какая-то волевая энергетика, я могу проекты держать, мыслить стратегически – это, кстати, дало мне долгое пребывание на телевидении и радио, потому что находишься внутри профессии, в технологии – посекундно. А кто-то исполнитель, и ему этого достаточно. Он мыслит в хорошем смысле местечково.
– Вот вопрос, кстати говоря! Во-первых, мне дико все интересно. Второе, парадоксальное: становится гораздо интереснее, если я чего-то не знаю, меня уныние не поражает. И третье, что я понял. Есть 2 фактора ментальности русского человека, которые невозможно испытать больше нигде. Это наша территория – такая огромная, что твои представления о достаточности беспредельны, у нас широкая душа, мы ни о чем не жалеем. Мы
находимся между двух культур. Религией опять ни с кем не связаны. И второе, что составляет нашу ментальность, – времена года. Не будь нашей осени – и «Болдинской осени» не было бы; не будь зимы – «Мороз и солнце, день чудесный» не было бы, ни хруста, ни радости солнца, уныния и подведения итогов осенних. Я в детстве думал: «Что Александру Сергеевичу так нравится осень?» А сейчас она и мне нравится, потому что с осенью приходят ароматы, внедряется желто-красный цвет, потрясающий в сочетании с голубым небом и низко висящим солнцем. Без осени и зимы никогда б не было весны, которая дает надежду, что уйдет грязь, придет зеленое, грянет свет! И лето мы воспринимаем как дар, потому что в любой момент оно может закончиться. И в результате оказывается, что времена года тоже очень важны для нас. У нас вся литература на этом построена, и вообще русский человек.
.jpg) И когда я все это понял, то я не просто успокоился. Это дало мне ощущение мощи беспредельной. Я сразу Васнецова полюбил. Возьмите «Витязя на распутье» – мы же постоянно в этом состоянии находимся, постоянно. Причем, куда б ты ни повернул, все равно встретится соловей-разбойник. У нас колоссальная страна, грандиозная совершенно. Мы мыслим по-другому. У нас категории пространства и времени совершенно другие.
И когда я все это понял, то я не просто успокоился. Это дало мне ощущение мощи беспредельной. Я сразу Васнецова полюбил. Возьмите «Витязя на распутье» – мы же постоянно в этом состоянии находимся, постоянно. Причем, куда б ты ни повернул, все равно встретится соловей-разбойник. У нас колоссальная страна, грандиозная совершенно. Мы мыслим по-другому. У нас категории пространства и времени совершенно другие.
– Мне как зрителю интересно: бывает ли такое, что партнеры на сцене не то что не помогают, а даже мешают – и как с этим быть?
– Бывает, но постепенно, с опытом, приходит понимание, что ты должен терпеть. Что в театре, как и в любой профессии, не может быть только талантливых людей. Талантливых и умных меньше, чем обычных, конструкция пирамидальная – никуда не денешься от этого. С другой стороны, не интересно, когда все умные. И мне сейчас как профессионалу абсолютно безразлично, кто рядом находится, потому что хороший режиссер сохраняет баланс.
Первый ход режиссуры заключается в том, как распределить роли. Потом обозначить позиции эстетики, жанра, мысли и философии будущего произведения, и потом – выстроить баланс. На расстоянии ты воспринимаешь спектакль как мозаику, которая складывается в абсолютно безупречную форму. Кстати, еще одна проблема актерская, чему тоже не учат: он воспринимает себя как творческую единицу, но не учитывает контекст. Его точка зрения – изнутри, а режиссер смотрит снаружи. Это вообще разные проекции. В училище не учат, что ты являешься частью замысла.
.jpg) И даже если у тебя возникают противоречия с этим замыслом, ты не можешь его изменить, потому что, настаивая на своем, этот замысел разрушаешь. Вместо того, чтобы ему подчиниться. Ведь в симфоническом оркестре ни у кого не возникает идеи сыграть на контрабасе соло за скрипку. А здесь возникает. Из-за этого – потеря времени.
И даже если у тебя возникают противоречия с этим замыслом, ты не можешь его изменить, потому что, настаивая на своем, этот замысел разрушаешь. Вместо того, чтобы ему подчиниться. Ведь в симфоническом оркестре ни у кого не возникает идеи сыграть на контрабасе соло за скрипку. А здесь возникает. Из-за этого – потеря времени.
– Даже у актеров с большим опытом бывает такое?
– У всех бывает. Это системная недоработка. Актерам нужна теория мастерства, общее ощущение композиции. Потому что актер часто даже не допускает мысли, что есть замысел, которому ты по определению должен доверять. Если он уже дал свое согласие на то, что будет участвовать в этом спектакле.
– А как Вы это для себя определяете: в этом проекте я приму участие, а в этом – точно нет?
– Ну, в театре это просто. В основном я работаю с Алексеем Владимировичем.
– А почему это просто в театре? Вы не можете отказаться от роли?
– Чисто теоретически могу, но практики такой нету. Во-первых, это уже некое противопоставление: профессия этого не подразумевает. В театре ты обязан выполнять поставленные перед тобой задачи.
.jpg) А насчет проектов проще: есть разные мотивации участия. Финансовая, предположим: здравый смысл подсказывает, что можно серьезно заработать. Есть другое. Как я, например, оперой стал заниматься? Это было случайное стечение обстоятельств. Но когда понял, что ни разу не занимался этим, принял решение приобрести такой опыт.
А насчет проектов проще: есть разные мотивации участия. Финансовая, предположим: здравый смысл подсказывает, что можно серьезно заработать. Есть другое. Как я, например, оперой стал заниматься? Это было случайное стечение обстоятельств. Но когда понял, что ни разу не занимался этим, принял решение приобрести такой опыт.
7 ноября, полтора года назад, мы играли первую оперу в РАМТе. Было очень страшно, потому что это огромный ресурс, гигантский оркестр, монтаж-демонтаж, завоз аппаратуры, заезд солистов – то есть вообще другой алгоритм. И очень много было завязано на моих решениях. Скорость принятия решений у меня увеличилась с этим проектом в разы. Потому что ты не можешь показать, что в чем-то сомневаешься – тебе надо двигать этот процесс дальше.
– Хочется спросить про Ваш репертуар. В особенности, чтобы Вы рассказали о двух спектаклях по Щекочихину, в которых принимали участие. Кажется, они были этапами, задавшими направление и для театра, и для той команды, что собралась тогда вокруг Бородина.
– Да-да, это знаковые работы. Особенно надо отметить «Ловушку 46, рост второй», решением Бородина было взять эту пьесу, она ведь еще залитована не была, ее нельзя было в принципе ставить. И из-за того, что нельзя было, сработал эффект: очень всем захотелось. Репетировали мы в свободное, кстати, от работы время. Средств-то не было, потому что репетировали вне плана. Декорации были вообще почти из ничего сделаны, одеты были в свое. Мы играли спектакль по понедельникам, в наш выходной, и без публики. Вот это круто было. Надо было играть спектакль, чтобы держать его в форме, и ждать чуда, которое потом произошло. А это ж очень сложно! Ты приходишь в свой выходной, начинается спектакль, там два человека сидят: Алексей Владимирович Бородин, который курил тогда, и Анна Алексеевна Некрасова. И вот там дым какой-то, и ты играешь. Абсурдная ситуация! А по полной же нужно играть.
.jpg) Причем, сама пьеса, которую Юра написал, несовершенна была, с точки зрения драматургии почти дилетантская. Но вот важная вещь: в ней какая-то была болевая точка, серьезная очень, которая сдетонировала и породила целый процесс. Так тоже бывает: текст не совершенен, но он заставляет мобилизоваться и придумать нечто внутри этого текста и вокруг, не потеряв энергию, а собрав ее в форму, причем, не имея средств. Вот задача театра.
Причем, сама пьеса, которую Юра написал, несовершенна была, с точки зрения драматургии почти дилетантская. Но вот важная вещь: в ней какая-то была болевая точка, серьезная очень, которая сдетонировала и породила целый процесс. Так тоже бывает: текст не совершенен, но он заставляет мобилизоваться и придумать нечто внутри этого текста и вокруг, не потеряв энергию, а собрав ее в форму, причем, не имея средств. Вот задача театра.
В половине этюдов мы не понимали, о чем говорили, говорили себе под нос, что вызвало у артистов опытных возмущение и протест. Но Бородину было важно сохранить, не расплескать то, что получалось, потому в эту драматургию нельзя было вторгаться со стереотипами театра.
Вот я говорил, что ты технологичен должен быть. А иногда видите, как бывает: тебя с этой технологией материал не выдерживает, перестает быть тем самым, чем должен. Значит нужно как-то по-хитрому туда входить. Ну, вот дверь можно ключом открыть, можно вышибить, а можно через замочную скважину, или под дверью, как сквозняк, просочиться. Видите, сколько возможностей? Так же и в театре: ты ищешь, как проникнуть. Это твоя задача.
.jpg) Ну и, короче говоря, этот спектакль, когда открылся для зрителя, безусловно сработал. И главное, оказалось – театр обязательно должен иметь современную драматургию. Потому что она как раз и провоцирует новое существование актера на сцене. А для этого нужны артисты. Поколение, которое Алексей Владимирович воспитывает. Он всегда говорит, что нужно поколение. Чтобы опытные учились у неопытных. Это интересная вещь тоже: чему может научить неопытный? С точки зрения здравого смысла, ничему. А оказывается, в неопытном много природы неоформленной, которая еще не затаскана штампами и технологиями. Вот парадоксальная вещь.
Ну и, короче говоря, этот спектакль, когда открылся для зрителя, безусловно сработал. И главное, оказалось – театр обязательно должен иметь современную драматургию. Потому что она как раз и провоцирует новое существование актера на сцене. А для этого нужны артисты. Поколение, которое Алексей Владимирович воспитывает. Он всегда говорит, что нужно поколение. Чтобы опытные учились у неопытных. Это интересная вещь тоже: чему может научить неопытный? С точки зрения здравого смысла, ничему. А оказывается, в неопытном много природы неоформленной, которая еще не затаскана штампами и технологиями. Вот парадоксальная вещь.
Как соблюсти баланс между технологией и живым существованием? Для этого нужно постоянно сталкиваться с какими-то вызовами, чтобы они в тебе воскресали природное какие-то такие вещи.
– А второй спектакль?
– «Между небом и землей жаворонок вьется» по тематике тоже опасный был, в первый раз со сцены о наркомании говорили. И по форме был интересный. Там мы в первый раз играли вживую «Битлов» на музыкальных инструментах. И вот это сочетание наркотических угаров, баланса между жизнью и смертью и живой музыки – да еще такой, которую исполняет не ансамбль «Аракс» или «Рок-Ателье» как в Ленкоме, а мы – это тоже смело было.
.jpg) И эти спектакли знаковыми оказались. Для старших, которые прокляли «Ловушку…», но потом все-таки поняли, что вокруг нее есть какой-то энергетический контур. И для нас – нового поколения, которое вошло в театр. До нас это был один театр и одни люди, а потом пришли мы, совершенно другие. Считай, повезло, такое редко сейчас может быть. Потому что нужна для этого художественная идея, новая драматургия, как в свое время с «Современником» произошло, и нужна еще такая социальная ситуация в стране: ты же этим что-то сказать должен.
И эти спектакли знаковыми оказались. Для старших, которые прокляли «Ловушку…», но потом все-таки поняли, что вокруг нее есть какой-то энергетический контур. И для нас – нового поколения, которое вошло в театр. До нас это был один театр и одни люди, а потом пришли мы, совершенно другие. Считай, повезло, такое редко сейчас может быть. Потому что нужна для этого художественная идея, новая драматургия, как в свое время с «Современником» произошло, и нужна еще такая социальная ситуация в стране: ты же этим что-то сказать должен.
А то бывает и так: тебе есть, что сказать, только тебя никто слушать не будет, потому что никому это не интересно и пока не нужно. А когда сочетается: тебе необходимо сказать, а остальным необходимо что-то услышать, – это дает такие феноменальные вещи, такие скачки. Из этого же театр рождается. То же самое было, кстати говоря, с «Таганкой»: Брехт и поколение новое.
– Мне кажется, что без этой истории, наверное, не было бы и «Берега Утопии», который появился спустя аж сколько лет.
.jpg) – Я поэтому и говорил, что «Ловушка…» открыла двери строительству нового театра. До нее был открытым вопрос: можно ли на основе старого театра сделать что-то другое? Потому что теоретически это возможно, а на практике не всегда. Должно сойтись очень многое. И «Берег Утопии» – это уже результат. Но представляете, сколько надо было всего пройти, поставить, наэкспериментировать, набрать народу, потерять на этом пути. Кто-то ведь ушел, не дождавшись, кто-то погиб. Нефедов погиб, Лара Моравская погибла, Женька Тиглев погиб, Щеглов погиб. Страшно слушать! Леша Кузнецов умер тоже. А кто-то ушел. Боря Шувалов ушел, Яна Лисовская сначала ушла к своему учителю во МХАТ, из него к Ефремову, одну роль сыграла и уехала в Германию. Ходченков не так давно ушел. И сегодня в театре из «Ловушки…» – только Блохин, Григорьев и я. Трагическая, абсолютно литературная история: от поколения, которое сделало театр, почти ничего не осталось.
– Я поэтому и говорил, что «Ловушка…» открыла двери строительству нового театра. До нее был открытым вопрос: можно ли на основе старого театра сделать что-то другое? Потому что теоретически это возможно, а на практике не всегда. Должно сойтись очень многое. И «Берег Утопии» – это уже результат. Но представляете, сколько надо было всего пройти, поставить, наэкспериментировать, набрать народу, потерять на этом пути. Кто-то ведь ушел, не дождавшись, кто-то погиб. Нефедов погиб, Лара Моравская погибла, Женька Тиглев погиб, Щеглов погиб. Страшно слушать! Леша Кузнецов умер тоже. А кто-то ушел. Боря Шувалов ушел, Яна Лисовская сначала ушла к своему учителю во МХАТ, из него к Ефремову, одну роль сыграла и уехала в Германию. Ходченков не так давно ушел. И сегодня в театре из «Ловушки…» – только Блохин, Григорьев и я. Трагическая, абсолютно литературная история: от поколения, которое сделало театр, почти ничего не осталось.
– Тот коллектив, который Вас сейчас в театре окружает, Вы ощущаете своими людьми?
– Ну да, конечно. С теми, кто недавно пришел, дистанция существует. Но я ведь самостийный в этом смысле. Куда бы ни приходил, ощущаю себя гелиоцентрично. Но бывает, что могут рядом люди находиться, которые тебе чужие в принципе. А кто-то на отдалении, но по духу свой. Спектакли объединяют, кстати говоря, очень.
.jpg) – А какие спектакли, из тех, что Вы сейчас играете, действительно объединяют труппу?
– А какие спектакли, из тех, что Вы сейчас играете, действительно объединяют труппу?
– Ну, мне кажется «Берег утопии» прежде всего бы таким спектаклем. Абсолютным феноменом. Труппу не могут объединить спектакли не такие густонаселенные, она ж больше, чем спектакль. Некоторые спектакли объединяют людей, но спектакль никакой. А люди объединены, прекрасно друг друга понимают. Бывает другая ситуация: люди приходят, работают, вместе играют, все, что нужно, между ними происходит. А заканчивается спектакль – даже не обращают друг на друга внимания, расходятся и все. Мы говорим «химия», а она же разная.
– А от чего это зависит? От людей, которые объединены в этом спектакле, от чего?
– От многого. Мы всегда пытаемся вывести закономерность и в этом смысле себя обкрадываем. Потому что любая закономерность превращается в правило. А правило едино для всех, в нем нет оригинальности. А я на жизнь так смотрю: что комбинации, как в шахматах, дают невероятное количество разрешения партии. Есть драматургия – это первое. Есть режиссер. Драматургия без этого режиссера – это одна драматургия, с другим режиссером – другая. Мало того что решения разные – уровни разные: один глубокий, другой примитивный. Есть труппа, которая участвует в спектакле. Сценограф, который решает, что это за пространство.
.jpg) И вот, бывает, спектакль репетируется сложно – и выходит великолепный, с потенциалом, будет расти – как ребенок. Начинает расти и превращается в потрясающего человека. Ну, или ребенок рождается, а вырастает бандитом и мозг с орех у него. А стартовые возможности, вроде бы, одинаковые – их перепутать можно в роддоме, этих детей. Или спектакль репетируется великолепно, к премьере готов, но это его последняя, финальная точка, предел, точка отсчета деградации спектакля.
И вот, бывает, спектакль репетируется сложно – и выходит великолепный, с потенциалом, будет расти – как ребенок. Начинает расти и превращается в потрясающего человека. Ну, или ребенок рождается, а вырастает бандитом и мозг с орех у него. А стартовые возможности, вроде бы, одинаковые – их перепутать можно в роддоме, этих детей. Или спектакль репетируется великолепно, к премьере готов, но это его последняя, финальная точка, предел, точка отсчета деградации спектакля.
Так что количество комбинаций невероятное. Ведь зависит даже от презентации идеи, заразились ею или не заразились, или наоборот сначала понравилось, а к концу спектакля все сдохли, не смогли прийти к финалу, чтобы это состоялось по-настоящему. Или идея настолько туманна на первый взгляд, что не заставляет мыслить, не увлекает, и только в процессе репетиции ты до чего-то доходишь. Или приходишь к этому в процессе игры спектакля.
.jpg) – «Последние дни» из какого разряда спектакль?
– «Последние дни» из какого разряда спектакль?
– Мне этот спектакль очень нравится. Он, кстати говоря, принципиально другой. И для меня, и для Бородина, и вообще для театра. Этот спектакль – в чистом виде сочинение. Потому что обычно в основе спектакля пьеса. А что здесь? Здесь пьеса, которая написана Булгаковым (пьеса «Последние дни» о Пушкине – прим. ред.), второе произведение написано не в связи с первым, а потому что интуитивно Алексей Владимирович почувствовал, что в этом тексте Акунина что-то есть (пьеса «Убить змееныша» о Петре Первом – прим. ред.), а эта пьеса слишком маленькая для полного спектакля. В обе взятые пьесы интегрирован «Медный всадник» – это в чистом виде творческое композиционное, волевое решение.
Художественное пространство там, мне кажется, очень правильное, потому что оно не иллюстративное, а несущее несколько смыслов. С одной стороны, очень дисциплинированное, а, с другой, это перевернутое отражение дисциплины Петербурга, переброс в современность. Это такой советский конструктивизм, эти все горизонтали двигающиеся, сочиненные костюмы, музыка специально для этого написанная. И все это вместе составляет произведение Российского академического Молодежного театра под руководством Бородина – современный и очень живой спектакль. Мне кажется, что для театра это важно.
.jpg) И очень важно для нас было сыграть этот спектакль в Петербурге, в Большом драматическом театре. Во-первых, сам театр потрясающий с невероятной историей, какие там артисты, это сборная Союза была. И приехал театр московский, который, собственно говоря, показал спектакль, который в Петербурге никогда поставить не смогли бы. Почему? Потому что их отношение к Александру Сергеевичу, к Петру, к Петербургу почти религиозное. И только на дистанции можно было достаточно адекватно воспроизвести Петербург Пушкина и Петра в сочетании с «Медным Всадником».
И очень важно для нас было сыграть этот спектакль в Петербурге, в Большом драматическом театре. Во-первых, сам театр потрясающий с невероятной историей, какие там артисты, это сборная Союза была. И приехал театр московский, который, собственно говоря, показал спектакль, который в Петербурге никогда поставить не смогли бы. Почему? Потому что их отношение к Александру Сергеевичу, к Петру, к Петербургу почти религиозное. И только на дистанции можно было достаточно адекватно воспроизвести Петербург Пушкина и Петра в сочетании с «Медным Всадником».
Петербург – это империя! И я за этот город переживаю. Я там погулял еще и думаю, ну как это можно бросить колыбель империи? Куда было привлечено самое лучшее: архитекторы, инженеры, которые создавали знаки империи. И только в Москве можно на расстоянии как раз отразить эти глубинные процессы. А в Петербурге внутри нельзя было бы это сделать. Их держала бы архитектура потрясающая, они бы начали чего-то иллюстрировать, на чем-то настаивать, потому что это очень близко лежит, «наше все, мы из этого родились»! А мы, валенки, так сказать, московские – нам на расстоянии видны все эти тонкие вещи. Произошел феномен, когда большое видится на расстоянии… Вот поэтому спектакль мне кажется очень важный. И вовремя.
 – А кстати, как Вы думаете, у нас единственный театр, где так много цветов дарят актерам?
– А кстати, как Вы думаете, у нас единственный театр, где так много цветов дарят актерам?
– Мне трудно сказать, я попадал и так, и так, по-разному. Это, с одной стороны, что-то показывает, с другой стороны, ни о чем может не говорить.
– Вам приятно зрительское внимание?
– А это в природе артиста, должно быть приятно.
Вообще, профессия актерская противоестественная. Ты добровольно отдаешься в пользование, теряя при этом собственное представление и вообще занимаешься черти чем. Ты говоришь не своими словами, надеваешь на себя иногда хороший костюм, если художник талантливый, переживать из-за того, что на тебя незнакомый человек орет, что ты чего-то не то делаешь. И все это терпишь, выполняя его иногда идиотскую волю. Я специально хочу огрубить, потому что болезненное состояние актерское откуда берется-то? А для женщины короткий период актерский по определению. К тому же в пьесе женских ролей максимум 25%. И это для меня тоже театр.
Но когда он происходит, это грандиозно. Люди выходят под впечатлением от миража. Ведь это все придумано. И это практически психоделическое существование: приходят люди из метро, с работы, идут в зал, а за занавесом – люди из другой жизни. И вот одни получают удовольствие от того, что они смогли высказаться и опустошены. Вторые, потрясены чем-то, о чем никогда не задумывались, и, может быть, у них появляется состояние, которое они не испытывали вообще никогда, на уровне какого-то наркотического, в хорошем смысле этого слова, изменения сознания.
Представляете, сколько вокруг накручено таких вещей, которые составляют природу и диалектику театра?
 – Вы так интересно размышляете, а почему Вы не преподаете?
– Вы так интересно размышляете, а почему Вы не преподаете?
– Вы знаете, в чем все дело, я ведь пробовал один раз у Бородина на курсе. Два отрывка делал. И это очень интересно, кстати говоря. Но для этого нужно много по времени этому отдаваться. Кстати, недавно в Щуке снимали фильм про Катина-Ярцева и задали тот же вопрос: «Алексей Алексеевич, что же Вы не преподаете, Вы очень интересно рассказываете и заразительно». И я полезен был бы, в принципе, при моем опыте и разносторонности занятий. Но, к сожалению, у меня на это времени нет. Но может по-всякому получиться. Поэтому не зарекайся. Но для этого нужно опять же стечение обстоятельств.
Интервью подготовили
Дарья Кустова
Полина Острижная
Борис Поженин
Сергей Пропажин
Ольга Бигильдинская
Фотографии из архива РАМТа


.jpg)
.jpg)

.jpg)
